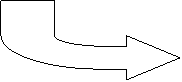Судьба
Я родилась 5 декабря 1936 в г. Константиновка Сталинской (Донецкой) области, Украина в обычной еврейской семье. Папа, мама, дедушка, бабушка, два моих братика, Вова и Миша, многочисленные дяди и тети, все были евреями. Но о том, что я еврейка, узнала уже в военные годы. Просто очень рано поняла, что я не такая, как все.
Папа, Смоляницкий Давид, до войны работал портным. На фронт ушел в первые дни войны, пропал без вести в августе 1944 года. Мама, Большинская Фрида, нигде не работала. Нас трое, дедушка, бабушка на ее руках.
Дальше - мои воспоминания.
... Ясный, солнечный день. Старший брат, Вова, ему 8 лет, привел меня в детский сад. А там, во дворе, такое чудо! Каждому приходящему ребенку взрослые сбрасывали с чердака двухколесные велосипеды. Мы стоим и смотрим, как зачарованные. Я тоже так хочу сесть на велосипед, но Вова крепко держит за руку, и я понимаю: мне не положено, потому, что я не такая, как другие дети. Еще одно воспоминание. У всех девочек в волосах красные банты, такие яркие, красивые, а мама почему-то принесла ленту бордового света. Я кричу, топаю ногами, я не хочу такую, хочу, как у всех, красную, но воспитательница что-то говорит маме, и мама соглашается. И снова детским умом постигаю: я не такая!
Летом детский сад вывезли на дачу. Потом другим детям и в другое время рассказывала, что мы жили в раю: солнце, небо синее, белые пушистые облачка, а на зеленой траве тарелка полная разноцветных конфет - горошка. К деревьям привязаны гамаки и мы в них малой кучей, а воспитатели нас раскачивают.
И вдруг лица у взрослых стали необычно строгими. О чем-то тихо они между собой переговаривались. Потом наша воспитательница завела нас в спальню, приказала подойти к своим кроватям и во всем слушаться Люську, свою дочку, такую же четырехлетнюю пигалицу, как и мы, и ушла, закрыв дверь. Это было необычно, не как всегда. Люська заставила всех переодеться в одинаковые штанишки, разложенные на кроватях. Это была моя первая казеная одежда, но я еще не знала об этом. Ночью нас подняли и куда-то повели. Кто не проснулся, несли на руках. Выходим во двор. Ночь черная, сверкают молнии, только не в небе, а как-то ближе к земле такими красноватыми полосками. И все время гремит гром. Так мы впервые услышали слово «канонада». Много лет спустя узнали, что детский сад сначала решили эвакуировать, потому и выдали эти самые штанишки.
...И вот мы в поезде. Подъезжаем к станции. Встречают меня мама и дедушка. Папы нет, но я не спрашиваю, где он. А дедушка, как взял на руки, так и нес до самого нашего дома, а это очень далеко, а я его крепко, со всей силы стискивала за шею. Принес домой, поставил перед столом, а на нем большая куча яблок. Такие красивые яблоки, краснобокие. Понимаю, что насыпали для меня, но стою тупо, не шелохнусь. Старая сразу стала. Поняла, что скоро всё и все исчезнут: и мама, и дедушка, и братики, и папа так и не вернется ко мне, и эти яблоки тоже исчезнут, а я останусь одна на всем свете.
Что дальше было, не помню. Но вот мы с мамой и дедушкой около нашего дома. Мама закрывает ставни, а дедушка заколачивает их крест-накрест деревянными досками. Дверь тоже заколотили. Где мы жили до зимы, не помню совсем. Осталось только ощущение ужаса в душе при виде грузовиков и собак овчарок. Грузовик для меня был не машиной, а страшным зверем, который для того и есть, чтобы меня раздавить, уничтожить. Еще много лет спустя при виде их кричала диким криком, а по ночам снился один и тот же сон. Грузовик движется на меня, а я бегу, добегаю до стены, вжимаюсь в нее и... просыпаюсь от собственного крика.
Сколько прошло времени, не знаю, но вот мама ведет меня за руку, а в другой руке держит маленький сверток. Я понимаю, что в свертке ребенок, но Миша, младший братик, большой, ему 1,5 года, а этот совсем маленький. Заходим в чей-то дом, а там женщина и две ее взрослые дочки, взлохмаченные, в дырявых кофтах. Мама о чем-то просит их, они кричат, рвут на себе и без того дырявые кофты и волосы. Потом все-таки взяли у мамы сверток и вынесли в сени, а меня посадили на лавку и показали на рот и на горящую печь. Я поняла, надо молчать, а не то...
И снова провал в памяти.
... Мама приводит меня домой, отдирает доски от двери. В доме темно, ставни заколочены. Мама переодевает меня во все новое, пальтишко, которое папа шил, бурки с новыми сверкающими галошками, повязывает на голову большой розовый платок с длиннющей бахромой. И снова куда-то ведет. В доме, в который мы вошли, женщина и двое ее детей, старшая, в моем представлении почти взрослая, и младший. Наверное, я их знала, потому, что младшего называла по имени. Его звали, как и моего братика, Вова. Оставила меня мама и ушла. Я думаю, что таким образом она хотела хоть кого-то из нас спасти от расстрела. Но уж лучше бы расстреляли, чем то, что пришлось испытать дальше.
К женщине пришел немец с ружьем, они зашли в комнату и закрылись. Через какое-то время женщина вышла полностью раздетая и снова зашла в комнату, закрыв за собой дверь. Я зашлась в плаче, ее дочка сначала цыкала на меня, грозила, что немец сейчас придет и убьет меня, а, когда не помогло, раздела меня и поднесла к горящей печке (везло мне на печи). Я затихла. Наконец немец ушел, женщина одела меня во все старое, рваное, а я не хотела одеваться: Это не мое, Вовкино, наше добро вон в том мешке, что моя мама принесла! Схватила она меня на руки и очень быстро понесла по улице, потом бросила в снег и убежала. Я осталась одна, забралась на чье-то крыльцо, вошла в комнату, а там мама, нет, не моя мама, собирает в дорогу троих своих детей, вешает им на спину котомки. Посадила она и меня к себе на коленки, обнимает, целует, плачет, показывает на своих детей. А я и так понимаю, что они идут менять, а я маленькая, не смогу идти далеко. Дала она мне сухарик, поцеловала, и ушли они, а я осталась на улице на снегу. Сколько "путешествовала", не знаю, плакала горько. Подошел ко мне, как рассказывала всем, "добрый полицай", и занес в какое-то помещение. Я попросила пить. Он набрал большую консервную банку снега, растопил в печурке и дал мне. Я пить не стала, выражаясь взрослым языком, побрезговала. У мамы с папой мы в чистоте жили. К грязи еще предстояло привыкнуть.
... И вот я в большой комнате среди женщин. Они все сидят на кроватях, расспрашивают, а я обстоятельно рассказываю, что я Смоляницкая Кира Давидовна, что мой папа на фронте, бьет немцев... Вдруг открывается дверь и заходит молодая женщина или девушка, не знаю. Она говорит, что она комсомолка Люся, пришла проведать меня, ставит бутылку с молоком и сообщает женщинам: "Ее мать немцы расстреляли". Где мои братики Вова и Миша, я не знала. Только в 1992 году наша довоенная соседка рассказала: "Немцы приехали за твоим дедушкой, а мы загородили Вову подолами юбок, но нашлась среди нас одна, схватила его и бросила в машину"
Потом вместе с другими детьми я оказалась в немецком госпитале. Запомнила имена детей: Полюхина Валя, Сидоркина Катя, Гулидова Валя, Васин Вова, Кузьмичева Эмма. Может, еще кто-то был, не помню. Нас поместили в палату, где все было чистое, белое. Наверное, и кормили хорошо, потому, что в шкафчике на тарелке стоял нарезанный на кусочки хлеб, но мы его не брали, ощущения чувства голода не помню. Собрала нас в госпитале Богуславская Антонина Васильевна. Как ей это удалось, не знаем. После войны она работала инспектором облОНО, а в те годы скрывалась под видом няни. Так нам говорили. Из всех детей я одна была еврейкой. Чтобы спасти от расстрела, меня записали Алексеенко Ириной Николаевной. Очень долго привыкала к новому имени. У родителей я была Кирочка, доця.
В госпитале нам разрешали ходить везде, нельзя было только подходить к забору из колючей проволоки. Вдоль него лежали такие длинные круглые предметы. Мы их минами называли. Я свободно ходила по госпиталю. Когда по вечерам приносили носилки с ранеными, я подходила, открывала одеяла, рассматривала лица. Солдаты терпеливо стояли, ждали, пока отойду. Я понимаю, в это трудно поверить, но так было. Подходила и к палатам. Стану у дверей и рассматриваю раненых, папу ищу. Я хорошо понимала, что папа на фронте, что его здесь не может быть, но все равно искала, искала.
И вот однажды нам сказали, что отвезут нас в Иванополье, в детдом. И я сразу поняла, что там будет очень-очень плохо. Иванополье в 6-и километрах от моего родного города Константиновки. 17 августа 1942 года (дату сама запомнила) нас посадили на линейку и повезли.
Завели в большую спальню. В ней рядам стоят койки, на них грязные тряпки. Разместили по койкам. Платьице, которое подарила Антонина Васильевна, забрали, а вместо него натянули длинную рубашку без рукавов. Так и проносила эту рубашку от лета 42-го года до осени 43-го, ни сверху, ни снизу, ни обуви. Нам почти не давали никакой еды, вода была в глубоком колодце. Зимой ели снег и лед, а летом с такой жадностью смотрела на лужи, может и пила, не помню. Даже после освобождения до самого моего выхода из детдома в 1951 году внизу в коридоре стояла выварка с водой, а около нее алюминиевая кружка. Из нее мы и пили. А было нас после войны около 150-ти. Но возвращусь назад. Через двор детдома проходила дорога, что соединяла город с селом. По ней иногда шли женщины с мешками за плечами, мои "однокашники" обступали их со всех сторон, протягивали руки, просили хоть что-нибудь. Иногда женщины давали то кусок макухи, то кукурузную лепешку. Я стояла позади, руку не тянула, понимала, мне нельзя, я не такая. И очень стыдно было. Рылись на свалке, куда немцы выбрасывали объедки (они жили тут же, в одном дворе с нами, но в другом здании, а в клубе стояли ихние кони). Охраняли ли нас что ли. Подбирали даже (не немцы, а мы), высохшие коровьи кизяки, грызли вместо макухи. Я, правда, не помню. По вечерам лезли на койки, натягивали на себя тряпки, сворачивались тугими клубками (на всю жизнь сохранилась эта привычка) и кое-как засыпали. Я дожидалась, пока все уснут, потихоньку выходила в коридор, набирала в рубашку мусор, который выбрасывали старшие, после походов, за чем-нибудь съестным, накрывалась с головой и перебирала, что можно отправить в рот, пожевать хоть что-нибудь. Утром просыпались не всегда все. Однажды не встал с кровати Ваня Елкин. Лежит не первой кровати и смотрит на нас. А мы не понимаем: раз смотрит, значит, живой, почему тогда не встает? Умирали и другие. Умерла и воспитательница Анна Ивановна. Взрослые не работали с нами, они приходили к нам из жалости. А будущая моя первая учительница Галина Акимовна рассказывала, что побыла, немного и ушла, не выдержала. На детей мы не были похожи. Втянутые серые щеки, палочки руки-ноги, у некоторых раздутые животы. А ко всему нас от чесотки мазали черной мазью, и нас, и окна одной и той же мазью. Зачем окна? Иногда ночью зажигали каганчик, так чтобы через окно не было видно, чтобы бомба в нас не попала.
Слово детдом я самостоятельно расшифровала уже в первом классе. А до это воспринимала, как «деддом». Это слово больше к нашей жизни подходило. Ни во время войны, ни после, никогда не слышала этого словосочетания: детский дом. Однажды к нам привезли грудных детей, разложили по койкам. Но очень скоро они исчезли. Если бы разобрали в семьи, мы бы знали. Всем было очень-очень плохо. Но хуже всего доставалось мне. Называли не по имени, а "еврейка", "жидовка", "юде", "пархатая". Сжималась в комок, прятала глаза. С нами были и "переростки", что намного старше нас. Кто-то из них знал нашу семью и, конечно, меня. Окружат, бывало, и рассматривают, как зверька, ищут "жидовское" нос, губы, глаза. Волосы и те были кудрявые. Ни раз грозили потащить к "фрицам" на расстрел, а они тут же через двор, только крикни погромче. Но не потащили, наверное, из страха, что их тоже пристрелят за компанию.
По ночам сказать, что было страшно, значит ничего не сказать. Лежу напряженная и прислушиваюсь, не протопают ли сапожищи. Это за мной, на расстрел. Размышляла, где спрятаться: в шкаф нельзя, найдут сразу, печка маленькая, не влезу, под кровать... не пройдет. Решила: под сетку, уцеплюсь снизу руками и ногами и как-нибудь удержусь. Еще не знала, что они постели штыками протыкают. Так "прожили", кто сумел, осень, зиму, весну, лето. Однажды утром старшие рассказали, что прибегали два наших разведчика, бегали везде и все просили: "дайте прикурить". Ночью село бомбили. Мы попрятались под кровати, "такое надежное убежище", сидим, дрожим. Днем раздался звон колокола. Немцы заставили всех выйти во двор. Помню, я уже не шла, по ступенькам спускалась на четвереньках. Построились. Мало же нас осталось. А немцы сидят на линейках. Федор Захарович (он работал завхозом еще в том, довоенном детдоме, его, детдом для детей репрессированных родителей, эвакуировали, а Федор Захарович остался из-за дочери-инвалидки) что-то говорит им, немцам, показывает на нас и смотрит так жалостливо. Много позже узнали, что немцы хотели нас или пострелять или взорвать вместе со зданием. Стоим мы, а я опять понимаю все, но уже не страшно, смерти не боюсь, только бы кончилось все поскорее, а то ноги совсем не держат. То ли Федор Захарович разжалобил немцев, то ли времени у них совсем не оставалось. Укатили они.
А нам Федор Захарович велел спуститься в погреб. Лежали на голой земле, дрожали. Бомбежка продолжалась. Утром все стихло. Но вдруг кто-то как забарабанит в дверь. Мы в крик. Но из-за двери веселый голос: «Не бойтесь, открывайте, свои!» Еле справился с задвижкой Федор Захарович. В открытую дверь влетели наши бойцы красные, похватали нас на руки, вынесли на воздух, отмыли, переодели, накормили.
Это было 6 сентября 1943 года.
Через год я пошла в школу. Училась только на «отлично», росла тихой, послушной.
Однажды на уроке почему-то мне стало плохо. Учительница разрешила выйти. Стою на пороге школы, качаюсь. Стошнило. И вдруг звонок, крики, топот ног: «Победа!» «Победа!», «Ура!!!». Не знаю, не уверенна, поймет ли кто-нибудь. Ну не испытала я радости, наоборот, такое горе навалилось, такое чувство несправедливости. Поняла окончательно, некого ждать, никто не вернется, никто-никто, никогда—никогда. Так и останусь одна на всем белом свете.
В детдоме я пробыла до июня 1951 года. И все эти годы ощущала себя отверженной, еврейкой. Я не могла играть, дружить, с кем хотела. Очень хотела танцевать, но в самодеятельность не брали по той же причине. И тогда, после приезда Московских артистов цирка начала заниматься акробатикой самостоятельно, и овладела, и выступала. Списывали у меня решенные задачи по математике, но воспринималось это как уродство: еврейка, они все такие. Тем более, что училась на пятерки.
Часто, особенно когда все смеялись, доводили до слез потому что... плакала часами.
А еще это горе, эта боль от гибели всех моих родных так и живут во мне всю жизнь.
Советуют: «Отпусти, забудь, не вспоминай». Не получается, не забывается, вспоминается.
И так болит...
|
Кира в послевоенном детдоме
|
 |
|
Поделитесь своими впечатлениями и размышлениями, вызванными этой публикацией. |